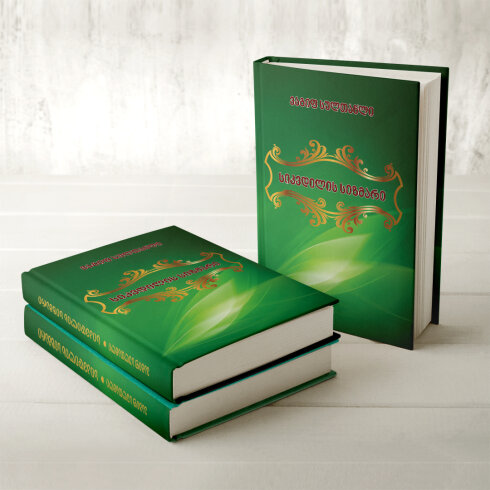,«Народы Южной Сибири в тюркскую эпоху»
30-12-2024, 09:04

Сложение прототюркского субстрата: конец I тысячелетия до н.э.
Гяньгуни
Наиболее определённо генетическая связь прослеживается с населением древнетюркской эпохи этнического наименования гэгунь (гяньгунь). В настоящее время установлено, что названия «гэгунь», «гяньгунь», «кигу», «цигу», «гегу», и, наконец, «хэгус», «хягас» представляют собой разновременные фонетические варианты одного этнонима «кыргыз», обозначавшего в I тысячелетии н.э. народ, живший на Среднем Енисее, в Минусинской котловине, и по этому признаку условно названный енисейскими кыргызами (в отличие от более поздних кыргызов на Тянь-Шане). Однако если связь всех этих названий со средневековыми кыргызами не вызывает сомнения, то в вопросах их локализации и возможности соотнесения с какой-либо археологической культурой хуннского времени остаётся много неясного.
Рассматривая свидетельства письменных источников о северном походе Модэ, В.В. Бартольд отмечал, что «рассказ о событии 201 года до н.э. ничего не говорит ни об области кыргызов, ни о её местоположении». Однако географические указания относительно нахождения ставки Чжичжи шаньюя, позволили В.В. Бартольду предположить, что «кыргызы тогда жили не только на Енисее, но и южнее, в той местности, где теперь озеро Кыргыз-нор», то есть в Северо-Западной Монголии. В дальнейшем идея о первоначальном проживании гяньгуней (кыргызов) именно в Северо-Западной Монголии укрепилась в литературе. На ней в значительной степени основана и высказанная С.В. Киселёвым и развёрнутая Л.Р. Кызласовым гипотеза о двухэтапном проникновении (при Модэ и Чжичжи) тюркоязычных гяньгуней на север, в Минусинскую котловину, где произошло смешение их с местными тагарскими (динлинскими?) племенами, что и положило начало сложению кыргызского этноса.
***
Следует также отметить, что даже В.В. Бартольд проявлял некоторую осторожность в привлечении названия озера Кыргыз-нор в Северо-Западной Монголии в качестве свидетельства пребывания здесь древних гяньгуней. Он писал: «Насколько мне известно, нет сведений о том, когда и почему озеро получило такое название». В целом же, не отрицая возможности проживания гяньгуней в конце I тысячелетия до н.э. в Северо-Западной Монголии, приходится признать, что бесспорных доказательств этого нет и возможны другие точки зрения, также имеющие характер более или менее обоснованных гипотез. Однако широкое расселение енисейских. кыргызов в середине IX века, как это будет показано ниже, явилось важнейшим этапом этнической истории практически всех народов севера Центральной Азии, а память о нём, закреплённая в топонимах, гидронимах и названиях древних курганов, не менее реальна, чем воспоминания двухтысячелетней давности, когда народа, с которым они связываются, фактически ещё не существовало.
В этой связи наибольший интерес представляют материалы, относящиеся ко времени завоевания гэгуней Модэ шаньюем: погребения в каменных ящиках, грунтовых ямах, перекрытых плитами (очевидно, упрощённый вариант ящика) и куполообразных склепах в Туве, объединённые А.Д. Грачом под общим названием памятников улуг-хемской культуры. Материалы раскопок этих памятников, к сожалению, практически не опубликованы, но по кратким сообщениям о них можно судить о составе сопроводительного инвентаря, в котором сочетаются прежние вещи скифского облика с новыми формами предметов хуннского происхождения. С одной стороны, это свидетельствует о более длительном, чем принято считать, существовании племён скифского времени; с другой – указывает на появление в конце III века до н.э. нового пришлого населения, хоронившего своих покойников в каменных ящиках и хорошо знакомого с хуннской культурной традицией.
***
Одновременно (III-II века до н.э.) каменные склепы появляются в Туве, например, на могильнике Аргалыкты I. Они представляли собой цилиндрические камеры, стенки которых были сплошь выложены плоскими каменными плитками, образовавшими в наземной части по принципу ложного свода невысокое куполообразное сооружение с плоским перекрытием из крупных плит. А со II века до н.э. (тесинский этап тагарской культуры) многочисленные погребения в каменных ящиках и грунтовые могилы с каменными конструкциями появляются и в Минусинской котловине. Отметим, что, начиная с эпохи бронзы, обряд погребения в каменных ящиках являлся традиционным для Минусинской котловины, однако он почти исчезает к концу сарагашенского этапа тагарской культуры. Поэтому, вероятно, правомерно связывать «вторичное» появление каменных ящиков на тесинском этапе с аналогичными погребениями в Туве и притоком оттуда в начале II века до н.э. нового населения, возродившего эту традицию на Среднем Енисее.
В пользу такого предположения говорят также не свойственный ранее для Минусинской котловины обычай впускных погребений в ограды более древних курганов и налепной валик на керамике, ранее здесь не встречавшийся, но являющийся отличительным признаком тувинской керамики скифского времени. Отдельные погребения в каменных ящиках известны также на Алтае, в Прибайкалье и Забайкалье. Это может свидетельствовать о распространении каких-то групп носителей традиции «ящичных» погребений как в западном, так и в восточном направлениях. Они повсеместно сосуществуют с другими типами памятников – коллективными погребениями в камерах-срубах в Туве, позднетагарскими большими курганами в Минусинской котловине, сопроводительными захоронениями коней на Горном Алтае, хуннскими могилами в Забайкалье. Но основная масса оставившего их населения, судя по концентрации памятников, в конце I тысячелетия до н.э. была сосредоточена на Верхнем и Среднем Енисее.
Вопрос об этнической принадлежности памятников улуг-хемской культуры в Туве и тесинского этапа в Минусинской котловине ещё не раскрыт и носит предварительный характер. Однако есть основания предположить их возможную принадлежность гяньгуням. Основанием для этого могут служить данные этногеографии о расселении гяньгуней в это время в Северо-Западной Монголии и на Верхнем Енисее, совпадение хронологии событий, связанных с северным походом Модэ в 201 году до н.э. и появлением «ящичных» погребений на севере Центральной Азии, присутствие хуннского компонента в культуре «тесинцев» и «улуг-хемцев», явно свидетельствующее о знакомстве их с культурой хунну, последовательность распространения «ящичных» или близких им по культуре погребений, появившихся, по-видимому, с конца III века до н.э. в Туве и со II века до н.э. в Минусинской котловине, наконец, несомненное участие тесинцев (гяньгуней?) в сложении таштыкской культуры, послужившей основой для дальнейшего развития культуры енисейских кыргызов.
Предыдущий раздел «Динлины» читать по ссылке:
https://www.facebook.com/ngsjournal/posts/pfbid0hQaxjhkHY5NdUmZTF2EhfzeVU8Pf9cjkxr47xJEzbAzEhk2RfbxwzgPN1AHK5Z1yl