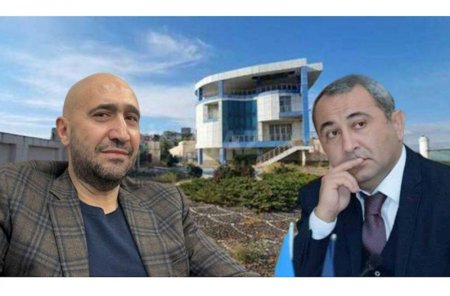Отрывок из «Когда то мы жили в горах» Сергея Довлатова
23-01-2025, 15:54

О неизвестных подробностях трансбайкальского и транссаянского брачных трафиков в материале Александра Махачкеева из 2 номера журнала «Минии буряад».
«Арменак подъехал к дому Терматеузовых на рыжем скакуне. Там он прислонил скакуна к забору и воскликнул:
- Беглар! У меня есть дело к тебе!
Был звонкий июньский полдень. Беглар вышел на крыльцо и гневно спросил:
- Не собираешься ли ты похитить мою единственную дочь?
- Я не против, – согласился дядя.
- Кто её тебе рекомендовал?
- Саркис рекомендовал.
- И ты решил её украсть?
Дядя кивнул.
- Твёрдо решил?
- Твёрдо.
Старик хлопнул в ладоши. Немедленно появилась Сирануш. Она подняла лицо, и в мире сразу же утвердилось ненастье её тёмных глаз. Неудержимо хлынул ливень её волос. Побеждённое солнце отступило в заросли ежевики.
- Желаю вам счастья, – произнёс Беглар, – не задерживайтесь. Погоню вышлю минут через сорок. Мои сыновья как раз вернутся из бани. Думаю, они захотят тебя убить.
- Естественно, – кивнул Арменак.
Он шагнул к забору. Но тут выяснилось, что скакун околел.
- Ничего, – сказал Беглар, – я дам тебе мой велосипед.
Арменак посадил заплаканную Сирануш на раму дорожного велосипеда. Затем сказал, обращаясь к Беглару:
- Хотелось бы, отец, чтобы погоня выглядела нормально. Пусть наденут чистые рубахи. Знаю я твоих сыновей. Не пришлось бы краснеть за этих ребят.
- Езжай и не беспокойся, – заверил старик, – погоню я организую.
- Мы ждём их в шашлычной на горе.
Арменак и Сирануш растворились в облаке пыли...
Через полчаса они сидели в шашлычной. Ещё через полчаса распахнулись двери и ворвались братья Терматеузовы. Они были в тёмных костюмах и чистых сорочках. Косматые папахи дымились на их беспутных головах. От бешеных криков на стенах возникали подпалины.
- О, нохой! – крикнул старший, Арам. – Ты похитил нашу единственную сестру! Ты умрёшь! Эй, кто там поближе, убейте его!
- Пгоклятье, – грассируя сказал младший, Леван, – извините меня. Я оставил наше гужье в багажнике такси.
- Хорошо, что я записал номер машины, – успокоил средний, Гиго.
- Но мы любим друг друга! – воскликнула Сирануш.
- Вот как? – удивился Арам. – Это меняет дело.
- Тем более что ружьё мы потеряли, – добавил Гиго.
- Можно и пгидушить, – сказал Леван.
- Лучше выпьем, – миролюбиво предложил Арменак...
С тех пор они не разлучались».
***
Как известно все народы крали и крадут друг у друга их самое ценное богатство – их женщин. Кража жены Темуджина в «Сокровенном сказании монголов» это классика. Монголы привозили в юрты знатных татарских, кереитских, персидских, русских и других красавиц и делали их жёнами и наложницами. Якутские предания о предках Омогое или Элляе, начинаются с того, что неженатые юноши крадут бурятских женщин, и за ними пускается погоня. Крали бурятских женщин и русские казаки. Но чаще всего умыкание невест было принято внутри народов и было это древнейшей формой брака. Практиковалось оно, у всех бурят от Алари до Аги. В Аге даже существует форма свадебного обряда «басага хулууха» – украсть девушку. Однако, в данном материале речь пойдёт о специфике этой брачной традиции у западных бурят. Сейчас, ещё есть живые свидетели этой экзотической с нынешней точки зрения страницы бурятской истории.
***
Кудара и Ольхон
Баргузинцы и кударинцы (кабанские буряты) в основном эхириты. Например, большой эхиритский род хэнгэлдэр широко встречается в Баргузине, Кударе и на иркутской стороне. Поэтому недавние переселенцы с западного берега Байкала продолжали поддерживать с оставшимися на месте родичами и земляками тесные связи: торговали, ездили совершать молебны на родовых местах или молились, обратившись на Запад, обменивались женщинами. Кударинцы активно занимавшиеся рыботорговлей и извозом товаров вплоть до Кяхты были платежеспособными людьми. Внутреннее бурятское море, обледеневший Байкал становился естественным мостом между родами, а строгая экзогамия способствовала консервации этого явления.
Рассказывает Сергей Николаевич Булдаев, экс-председатель Совета министров РБ, уроженец села Корсаково Кабанского района: «Когда я был маленьким, это было обычной практикой. Говорили, здесь появилась украденная невеста, тут украли, там украли девушку. И меня это сильно занимало: «О-о, украли! И какая она эта украденная девушка? Горюет, поди, бедняжка, убивается». Зайдёшь посмотреть, а она ходит по дому, как ни в чём не бывало, всё вроде нормально… Обычно, невест привозили с той стороны Байкала, с Ольхона. Как только на Байкале вставал лёд, так и начинали женихи ездить за невестами. В основном, конечно, родители договаривались, и насильное умыкание было редко».
Поэтесса Дулгар Доржиева, родом из Баргузинской долины, зафиксировала целую группу таких вот женщин: «В 1991 году на большом автобусе «Икарус» большая делегация творческих людей, среди которых были писатель Цыденжап Жимбиев, журналист Валерий Бадмаев и другие известные деятели культуры отправилась на Ольхон. Мы ехали на большой тайлаган и с нами ехали известные шаманы Леонтий Борбоев, Надежда Степанова, другие священнослужители. Больше всего меня в этой поездке поразила встреча с моими землячками, женщинами из Баргузина выданными замуж за ольхонских мужчин из села Сарма. Узнав, что я баргузинская, они подходили, расспрашивали о жизни в родных местах, мы обменивались подарками. Их было около десяти бабушек лет семидесяти. Это была очень трогательная встреча».
***
Усть-Орда и Баргузин
Однако, красота баргузинских девушек пользовалась спросом не только на Ольхоне, но и гораздо дальше – от Качуга до Иркутска. В Эмегее (входит в поселение Харануты) близ Усть-Орды в своё время почти полдеревни были женаты на баргузинках. По словам 84-летней Аграфены Алсаевны Дашановой (в девичестве Ангараевой) всё объяснялось экономически – существованием калымов. Эмегейцы не могли позволить себе местных девушек, за которых требовали неподъёмный для них выкуп. Им приходилось ездить в Баргузин, где было достаточно красивых, но бедных девушек. А вот, например, в соседнем зажиточном Шабарыке их не было вовсе. Кроме того, местные промышляли извозом, возили муку и другие товары из Иркутска на север в верховья Лены к якутам и в Баргузин. В пути выменивали пушнину и высматривали девушек.
Существовала отработанная технология торговли и похищения девушек. В селе Хурамша (не путать с Иволгинской Хурамшей) был посредник, который имел разветвлённые связи в долине невест. Женихи загодя готовили сильных лошадей способных перепрыгивать через трещины и полыньи на Байкале, брали и запасную лошадь. Укутавшись в дополнительные дохи жених, кто-то из братьев, дядьев или друзей, а также посредник выезжали в путь. С собой брали, как утверждает Аграфена Алсаевна мешки печёного хлеба. Нужно было иметь и оружие. Дорога была неблизкой и рискованной. По дороге могли напасть не только волки, но и лихие люди, вокруг Иркутска всегда хватало беглых каторжан, ссыльных черкесов, голодных и злых переселенцев из Центральной России, а также доморощенных разбойников. Местные сами часто грабили ольхонцев ездивших в Иркутск продавать мясо и рыбу.
Да и как там, у невесты встретят и проводят? Километров 50-60 до Байкала через тайгу, ширина озера от 24 до 80 километров, а наискосок от Ольхона до Усть-Баргузина порядка 100 и более километров через торосы и трещины и далее ещё километров 60-70 до заимок баргузинских бурят. При хорошей подготовке и благоприятном стечении обстоятельств обмен совершался на легальной основе. Но если открытый обмен срывался, девушку умыкали – набрасывали доху, укутывали и увозили. Могли украсть первую попавшуюся молодую женщину, лишь бы ядрёная была и могла рожать. Аграфена Алсаевна Дашанова, сама пешком переходившая Байкал в военные годы для работы на лесоповале на восточном берегу, рассказывает: «Похищенным девушкам завязывали глаза, чтобы они не видели дорогу, а по приезду, давали новые имена. Одну девушку почему-то назвали Лентой, наверное, от русского Елена».
***
У Григория Ангараева из Эмегея бабушка Буднэй была баргузинкой 1901 года рождения. Дед, Айдай Ангараевич Ангараев сам ездил за ней в сопровождении дяди и друга где-то в 1920-1922 годах. Буднэй была старшей в семье из десяти детей, из которых только один был мальчик. Деваться ей было некуда, кроме как добровольно идти замуж. Айдай и Буднэй родили четверых детей, старший пал на фронте. В Баргузин к родственникам она ездила, но уже став бабушкой. Умерла она в возрасте 81 года. Её дети, а теперь и внуки поддерживают связи с баргузинскими родственниками. В свою очередь, баргузинцы брали жён на западном берегу. Как утверждает писатель Алексей Гатапов, по рассказам стариков баргузинские парни ездили за невестами не только на Ольхон, но и в Бохан. А это дальше посёлка Усть-Орда ещё на 100 километров. Но Гатапов считает, что такие расстояния людей не пугали, поскольку в те времена баргузинские парни угоняли лошадей даже из Монголии и возвращались оттуда уже богатыми людьми. По рассказам тех же стариков в Улюне был лихой фронтовик, который умыкал девушек прямо с коня. После кино у сельского клуба в послевоенные годы. Хватал, словно овцу и был таков...
***
Ока, Тунка, Аларь и Унга
На юге Иркутской области также шёл интенсивный обмен невестами между аларскими и унгинскими (нукутскими) бурятами с одной стороны и тункинскими и окинскими бурятами с другой стороны. Тункинцы и окинцы до Октябрьской революции в административном плане относились не к Забайкальской губернии, а к Иркутской. Они не только территориально, но и по происхождению относятся к западным бурятам. В отличие от северного эхиритско-булагатского байкальского ареала, в основном это был хонгодорско-булагатский саянский пояс. Если северян разделял и в то же время объединял Байкал, то южан неприступные хребты Саян. Трафиком служили ледовые трассы горных рек Оки и Иркута. Дело в том, что и здесь основой брачных отношений служила экономика. Окинцы поставляли пушнину, искусно выделанную овчину, кузнечные изделия, а взамен увозили муку, соль, другие продукты и промышленные товары. Аларцы служили посредниками и переводчиками в этом товарообороте между Иркутском и Окой.
«В семейно-брачных отношениях между окинскими и аларскими бурятами складывался обычай женитьбы и замужества на калымной основе. К примеру, отец-окинец, выдавая дочь замуж за аларца, брал калым от родителей жениха – пять мешков муки» [Ж.А. Зимин. «Этнокультурные традиции Окинского края», Улан-Удэ, 2001]. Окинцы не только выдавали своих дочерей замуж за аларских, унгинских и балаганских бурят, но и женили своих сыновей на девушках оттуда, а в качестве калыма служила, очевидно, пушнина. Достаточно широкие экономические и брачные связи способствовали и культурным взаимовлияниям. Окинцы научили аларцев пить чай-затуран, а аларцы технологии выпечки хлеба и т.д. Поэтому сейчас практически во всех аларских и унгинских сёлах есть люди с тункинскими и окинскими корнями и наоборот. Например, актриса Нина Токуренова родом из Оки является потомком известного аларского тайшинского рода Баторовых.
***
От калыма до любви
Причиной кражи невест был калым, а его величина (барил по-бурятски) зависела от состоятельности сторон. За некоторых жён платили до 100 лошадей, значительное количество быков, овец и верблюдов. У кударинских бурят в конце XIX века кроме скота, в калым входила денежная сумма от 300 до 700 рублей серебром. Но, иногда стоимость приданого невесты могла превысить стоимость калыма. Приданое – энжэ, являлось полной собственностью жены, и муж не имел на него никакого права. В случае развода жена уходила с приданым, и его размер являлся своего рода гарантией высокого статуса женщины в новой семье. Передовые люди того времени понимали вред этого обычая. В 1885 году тайша кударинских бурят Иван Заяханов-Хамаганов публично выступил против калыма. Он привёл факты экономических потерь от калыма и указал на нравственную сторону – «потребность вступления в брак у нас является не результатом взаимной любви и симпатии сторон, а просто делом хозяйственно-экономического расчёта», «у нас нет слов выражения нежных взаимных отношений между полами, – нет любовно-ласкательных слов, кроме слова «дуртай».
Во избежание расходов по калыму иногда прибегали к обычаю-андалята – обмену, заключавшемуся в том, что две семьи, имевшие сыновей и дочерей каждая, обменивались девушками. Кстати, обмен не всегда гарантировал качество. Бывали случаи, когда подсовывали девушек «с дефектами». В селе Дархаты близ Усть-Орды до сих пор помнят, как подсунули подслеповатую девушку, которую пришлось возвращать. Калым вынуждал и к женитьбе на русских девушках.
Умыкание – похищение невесты было крайней мерой. Этот жестокий обычай продержался в отдельных местах вплоть до 40-х годов прошлого века и скорее всего, были прерван Второй Мировой войной, когда тотальная убыль мужчин сделала неактуальным такой способ добычи жён. А последним ударом в существование трансбайкальского и транссаянского брачного трафиков стала победа советского образа жизни в 1950-х. Вследствие прямого запрета на калым, уголовной ответственности за похищение людей, достижения социального равенства и женской эмансипации. Тогда же Улан-Удэ превратился в центр общебурятской жизни, и вчерашняя сельская молодёжь стала знакомиться и влюбляться на ёхорах в Горсаду. Советская власть «освободила угнетённую женщину Востока». Однако, Ока в Саянах и Кудара в дельте Селенги остаются естественными изолятами и сегодня отсутствие традиционных трансбайкальского и транссаянского брачных трафиков вновь ставит вопрос об опасности кровосмешения. В том же Корсаково сейчас женятся, как говорится «сходив за забор». Не пора ли вернуть этот в кавычках «древний красивый обычай»?
***
Справка
У бурят существовали четыре «законные» формы брака по сватовству, заключавшиеся двумя семьями по предварительному договору: брак с уплатой калыма, брак путём обмена невестами, левират (форма брака, при которой холостяк или вдовец женился на вдове своего покойного брата для того, чтобы не потерять выплаченный за неё калым) и соротат (форма брака, при которой вдовец женился на сестре умершей супруги). Помимо признаваемых форм заключения брака существовали тайные браки, производимые путём насильственного и мнимого похищения невесты (брак «убегом»). Основой брака являлась строгая экзогамия, запрещавшая браки между родственниками по отцовской линии, круг которых определялся до седьмого колена, а по материнской – до второго колена [К.Д. Басаева. Преобразования в семейно-брачных отношениях бурят. Улан-Удэ, 1974, К.Д. Басаева. Семья и брак у бурят. Улан-Удэ, 1991].
Рисунок Зорикто Доржиева (Бурятия)
Nomads of the Great steppe
TEREF