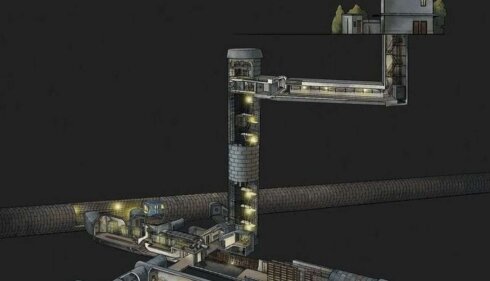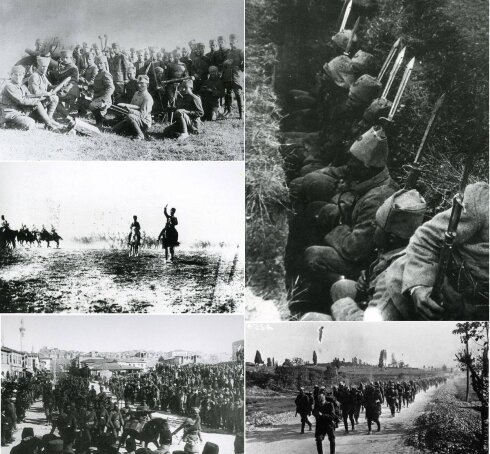Племенная иерархия и статус племенных объединений в имперских системах тюркских каганатов (середина VI – первая половина VIII веков)
21-07-2025, 16:04

Каково же было положение крупных племенных объединений кочевников в имперской иерархии Второго Тюркского каганата? Тюркские надписи, не отвечая напрямую на этот вопрос, всё же дают некоторые сведения по обозначенной проблеме. Однако подход к источникам не должен быть формальным. Иерархические титулы не всегда отвечают реальному рангу предводителей племенных союзов. Обладателями титула «каган» («хан») помимо тюркских правителей названы лидеры токуз-огузов (до покорения тюркам) тюргешей, кыргызов, асов (временно, при исключительных обстоятельствах). Другие надплеменные вожди носили титулы эльтеберов, идыкутов, иркинов (Великий Иркин Йэр Байырку), сенгунов. Анализ текстов показывает, что иерархия строилась на иных принципах.
Наиболее влиятельное положение в каганате после тюрков занимали токуз-огузы во главе с уйгурами. О высоком статусе «девяти племён» говорит знаменитая фраза рунических памятников в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана «народ токуз-огузов был мой собственный народ» («Токуз-огузы были мой собственный народ»). Несмотря на мятежи и выступления уйгуров и входивших в возглавляемый ими племенной союз линиджей, весомую роль токуз-огузов в свержении власти тюрков в степи в 630 году, их ожесточённую борьбу с Ильтериш-каганом, откочёвки на границу с главным врагом тюрков – Китаем, тюркская элита продолжала рассматривать «девять племён» как главную опору своей власти в Центральной Монголии. Стоит обратить внимание на тот факт, что в сохранившейся части Малой надписи памятника Кюль-тегину наряду с родственниками кагана, должностными лицами империи, «тюркскими племенами и народами» названы только «начальники и народ девяти племён».
Это явно не случайно, поскольку в Большой надписи данного памятника имеется обращение от лица правителя к «тюркским и огузским бегам и народу». Стоит подчеркнуть, что подобная текстовая комбинация встречается ещё раз в надписи на памятнике в честь Тоньюкука: «Тюркский Бильге-каган возвышает народ тюрков-сиров и народ огузов». Оставим в данном случае в стороне разбор политонима «тюрки-сиры», так как эта проблема заслуживает отдельного исследования и, скорее всего, здесь говорится о союзе внутри «тюркского народа». Важно отметить, что кроме токуз-огузов больше не одно подчинённое тюркам племенное объединение не удостаивалось такой чести, как упоминания их «бегов и народа» вместе с «тюркским народом» и причисления их каганом к «моему собственному народу».
***
Полагаю, что в рассмотренных отрывках тюркских текстов речь шла не только об этнической близости тюрков с токуз-огузами (данные связи не во всех случаях очевидны, а родство тюрков и уйгуров весьма сомнительно), но и о признании реального влияния данного племенного объединения в политической жизни центрально-азиатских степей. Уйгуры вместе с пугу, тунло, цзегу и другими токуз-огузскими племенами, занимавшие территории от среднего течения Селенги и до бассейна Толы, играли стратегическую роль в степном пространстве Центральной и Северной Монголии. Без лояльности токуз-огузов власть тюрков была неустойчива. Кыргызы, карлуки, кидании и другие племена могли поднимать мятежи на периферии каганата, но при спокойствии в центре империи эти выступления не угрожали тюркской власти непосредственно.
А вот токуз-огузские племена могли решить судьбу Второго Тюркского каганата одним успешным ударом по ставке правителя в Отюкенской черни. Не случайно, что именно столкновения с токуз-огузами были наиболее продолжительными и упорными. После прихода к власти Бильге-кагана тюркам пришлось неоднократно сражаться с токуз-огузами и их союзниками и проводить карательную акцию на Селенге, в то время как для усмирения других племён обычно хватало одной – двух побед. Тюрки осознавали силу и потенциал уйгуров, намеренно приближая их к тюркской элите и конструируя этно-политическую общность тюрков и токуз-огузов. При этом, однако, в текстах всегда чётко дифференцируются тюрки и токуз-огузы. В этом контексте можно рассматривать токуз-огузов как племенной союз, непосредственно подчинённый кагану.
***
Следующую ступень составляли племена, чьи воины могли играть вспомогательную роль в тюркской армии либо оказывать помощь в противостоянии с противниками тюрков. К примеру, стратегическое положение на границах каганата занимали чики и азы в Туве. Здесь угрозу для интересов тюрков представляли кыргызы, укрывшиеся за труднодоступными горами в Минусинской котловине и способные совершать рейды против каганата. Не случайно Капаган-кагану на первых порах пришлось азскому Барс-бегу «при тех обстоятельствах» даровать титул кагана и отдать замуж свою младшую сестру. Лишь после «провинности» и смерти азского кагана народ азов был подчинён тюркским тутукам («народ его стал рабынями и рабами»). Особое положение занимало и племя (племенное объединение) байырку («племя Йэр Байырку»), кочевавшее к северу от Керулена и фигурирующее в надписях отдельно от токуз-огузских племён.
Ряд тюркоязычных племён, входивших в каганат, выплачивали правителю дань и должны были «посылать караваны». В частности, в надписи в честь Бильге-кагана указывается, что ещё в 20-летнем возрасте будущий правитель империи «пошёл против народа басмылов и его ыдук-кута [...] так как он не посылал караван с данью». Возможно (из-за разрушения надписи данный фрагмент не совсем понятен), дань в центр империи должны были поставлять и карлуки.
Другую группу «подданных» составляли монголоязычные племена киданей, татабийцев (хи, си, кумоси). Их положение не совсем ясно. В иерархии племён они не были на первых местах. Но сам регион, где располагались данные племена, играл важное значение, находясь между восточными владениями тюрков и северо-восточными провинциями Китая. Тюрки использовали противоречия между хи и киданями (известно совместные нападения тюрков и си на киданей), хотя, судя по руническим надписям, хи и кидании несколько раз совместно выступали против тюрков. Кидани были ненадёжными участниками системы каганата, переходили в подданство Китаю и подчинялись только военной силе тюрков. Ещё одну ступень составляли полуоседлые племена Саяно-Алтая. Характеристика отношений тюрков с населением данных территорий требует отдельного исследования, так же как и разговор о положении во Втором Тюркском каганате разных страт оседлого населения.
***
Выводы
Племенная иерархия, так же как и вся имперская система в Тюркских каганатах, была весьма динамичной. Отношения Ашина и подчинённых племенных союзов сильно влияли на устойчивость всей кочевой империи. Примеры из истории Второго Тюркского каганата показывают, что в условиях крупных поражений тюркских армий, смены власти, стремлений Китая ослабить каганат, мятежи и выступления подвластных племён были нередким явлением. Но при Капаган-кагане и Бильге-кагане бывали и «золотые времена», когда правителям удавалось «завести порядок» в народе, и в восприятии тюркских текстов не только тюрки, но и другие племена «процветали»: «в то время [наши] рабы стали рабовладельцами, а [наши] рабыни рабовладелицами». Тем самым периоды «расцвета» Тюркских каганатов предполагали, что каган «устроил эль», «завёл в нём порядок», «поднимает» и «вскармливает народ», «делает богатым неимущий народ», «многочисленным малочисленный народ», ему «народы всех четырёх сторон света отдают труды и силы». В этих условиях политическая автономность племенных вождей заключалась в отсутствии прямого вмешательства в их дела, но при этом сохранялся контроль за племенными элитами через институт тутуков, подтверждавших их лояльность верховному правителю.
Таким образом, в племенной иерархии Тюркских каганатов можно выделить несколько ступеней. На примере Второго Тюркского каганата можно конкретизировать положение и статус отдельных племенных союзов. Возглавлял имперскую систему клан правителя, который опирался на тюркскую аристократию и «тюркский народ». Ключевую роль в имперской системе играли токуз-огузы, занимавшие стратегически важные земли в Северной и Центральной Монголии. Среди других кочевых племенных союзов высоким статусом обладали байырку, азы. Определённой автономией располагали племенные союзы, расположенные в удалённых западных и восточных владениях каганата (карлуки, кидании). Более низким статусом обладали племена, платившие тюркам дань и возглавляемые тюркскими наместниками. Таковым, к примеру, было положение басмылов в начале VII века. Однако роль племенных групп в имперской системе была непостоянной и могла меняться со временем. Хорошо известно, что в свержении власти тюрков в 742-744 годах наряду с токуз-огузами активное участие приняли карлуки и басмылы.
Конец статьи.
Автор статьи: Васютин Сергей Александрович – доцент, заведующий кафедрой истории цивилизации и социокультурных коммуникаций КемГУ, vasutin@history.kemsu.ru, vasutin2012@list.ru.
***
Первую часть статьи читать по ссылке:
https://www.facebook.com/ngsjournal/posts/pfbid0cbLXDWfdR1BXiiCz35hYMv2mZhHwG38cPhDm7C7ArsS4TVnPFHnWYb72QpMFNx4hl
Nomads of the Great steppe
TEREF